Евгений Якубович. Программист для преисподней (роман). Читать. часть 7
| главная | блог писателя | электронные книги | аудиокниги | интервью |
книги
Программист для преисподней
читать:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Санитарный инспектор
читать:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Кодекс джиннов
читать:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
Личная жизнь гномов
читать:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10] [11] [12] [13] [14] [15] Спасите Великое кольцо! Воскресный сын рассказыФантастика Юмористическая фантастика "Сумерки, XXI век" Проза "Made in USSR" "Made in Israel" Сатира и юмор Рассказы силлюстрациями Интервью Библиография Напишите мне: evgeny@yakubovich.com
|
Евгений ЯкубовичПрограммист для преисподней(роман)Глава 17На фестивале
В промежутках между анекдотами
Пахло мятой. Вообще-то в воздухе было куда больше запахов, цвело все, что только может расти и цвести в этих горах, но Каценович выделял именно мяту. Ее аромат первым проникал в автобус, когда тот начинал карабкаться по узкому ущелью, ведущему из города сюда, на уступы горного плато. Запах мяты наполнял автобус, и Каценович чувствовал, как отпускает его постоянное нервное напряжение – несильное, но уже становящееся привычным. Запах проникал в автобус всегда в одном и том же месте дороги: за поворотом после третьего моста. Каценович всегда ждал этого поворота с замиранием сердца: а вдруг в этот раз что-то сломается и запаха не будет? Но ничего не ломалось, запах по-хозяйски заполнял автобус, и Каценович говорил себе: «Ну вот я и в горах, вот и начался мой праздник». Фестивальный палаточный лагерь был разбит в живописном горном урочище, рядом с широким пологим склоном, в конце которого стояла не слишком аккуратно сколоченная сцена. Сам склон назывался Фестивальная Гора. На нем, как в природном амфитеатре, располагались зрители во время концертов. Место было удобно еще и тем, что неподалеку располагались здания туристической базы, к которой организаторы были привязаны электричеством и другими материальными благами. Также на базе размещали столичных гостей, которым по рангу не полагалось спать в палатках. Каценович сидел в заднем ряду в актовом зале турбазы. Было свободно, это был не фестивальный концерт, а, так называемая, «творческая мастерская». Предполагалось, что известные профессиональные поэты и композиторы будут слушать песни начинающих самодеятельных авторов и давать полезные советы. Для этого было сформировано представительное жюри из приглашенных светил жанра, во главе с неким Уваловым – столичным поэтом, публицистом и общественным деятелем, который возглавлял движение авторской песни по официальной линии. Вот этот поэт-общественник и вел сегодня творческую мастерскую. Первым на сцену вышел никому неизвестный молодой парнишка. Он спел песню, которая начиналась словами «Вы куда, мужики, это только ведь в книжках красиво». Песня посвящалась уезжающим за границу друзьям. На взгляд Каценовича, песня получилась. Было видно, что написано от сердца, что переживает парень и за тех, кто уезжает в неизвестность, и за тех, кто остается здесь, в известной заранее ситуации, которая хуже любой неизвестности. Настроение у самого Каценовича было примерно таким же. Вот уже не первый год его друзья, один за другим, уезжали. Песню приняли тепло. Немногочисленные зрители захлопали, одобрительно зашептались. Однако мэтру песня не понравилась. Увалов начальственно откашлялся, выдержал паузу и изрек: – Вы, молодой человек, не в ладах с русским языком. Вот вы используете обращение «мужики». Слово «мужик» означает крепкого русского человека, такого крестьянина с окладистой бородой. Или рабочего, тоже настоящего трудящегося человека. А у вас там кто? Уезжающие сапожники, цеховики да крутилы всякие? К тому же, и не русские они вообще… Нет, – высказав еще несколько подобных глупостей, закончил Увалов, – очень слабая песня, я бы даже сказал, ненужная песня. Парень, как оплеванный, молча ушел со сцены. Раздосадованный Каценович последовал за ним. У входа на турбазу он встретил расстроенного Мишку, возле которого стоял Совин, и что-то ему втолковывал. Каценович услышал лишь окончание разговора. – И вообще, – говорил Совин, – меняешь первую фразу, и выходишь сразу на Гран-при фестиваля. – Как я ее поменяю? – удивленно спросил Мишка. – Очень просто. Как там у тебя было, «Вы куда, мужики»? Переделай на «Куда вы, жиды». И все. Увалов первый проголосует «за». – Перестань, Сова, парень ведь всерьез тебя воспринимает, – вмешался Каценович. – А я серьезно говорю: если такое дерьмо, как Увалов, придирается, значит – порядок, песня хорошая, и ее надо петь. Ты, Миш, кстати, запиши мне слова. Давай вот прямо сейчас, пока не потерялись в этой суматохе. Совин не был антисемитом в полном понимании этого слова. Что у Совина действительно было, так это естественное, как он считал, пренебрежение человека чрезвычайно физически крепкого и абсолютно здорового к низкорослой, субтильной породе среднеазиатских евреев. А вот Каценовича Совин любил. Регулярно встречаясь на фестивалях, и имея примерно одинаковый репертуар, что свидетельствовало о совпадении если не всего мировоззрения, то хотя бы литературно-музыкального вкуса, они прекрасно пели дуэтом. Правда, только для своих: на сцене вдвоем им было нечего делать. Высокий, крепко скроенный Совин и щуплый низенький Каценович – выступая вдвоем, на сцене они выглядели до карикатурности странно. «Ребятки, – заявил им как-то один режиссер, – а вы попробуйте. Вам и делать ничего не надо, просто выйдете на сцену, и будете иметь всеобщее внимание. Правда, об умном петь не советую». Весь день Каценович, как заведенный, метался по неотложным фестивальным делам то на турбазу, то в палаточный лагерь. К вечеру организационные проблемы остались позади. Начался концерт гостей, а потом костры и песни, и общение, и замечательное ощущение, что находишься среди своих. И хотелось, чтобы эти песни и этот вечер продолжались бесконечно, чтобы не надо было возвращаться в душный пыльный город, не отправляться на работу в надоевший техникум, к своим бандитского вида ученикам, которые на дух не переносят математику, как, впрочем, и все остальные предметы. Далеко за полночь, когда костры потихоньку догорели, и все разошлись, Каценович, наконец, забрался в палатку. Он с трудом уснул, уговорив себя немного отдохнуть перед завтрашним днем. Примерно через час он проснулся и понял, что перевозбужденный организм в ближайшие сутки больше спать не собирается. Он оделся и вылез из палатки. Первое, что он увидел, была узнаваемая даже в темноте фигура Совина. Поговаривали, что Совин, как будто оправдывая свою фамилию, никогда не спит на фестивалях. Под присягой Каценович не рискнул бы это подтвердить, но зато мог точно сказать, что в то ночное время, когда он бодрствовал, сам Совин был всегда рядом. – А, вот и Каценович выполз, – воскликнул Совин, разглядев в темноте приближающийся силуэт. – Как там, у Пушкина было: «и днем и ночью Каценович все ходит, поц...»! Только вот причем тут «...епи кругом»? Каценович тут же объяснил: – Все правильно, я же математик, вокруг меня все время то «е», то «пи». А ты в Пушкина не въезжаешь, куда тебе до Пушкина. И вообще, мне у него нравится другое место, вот это, послушай: «Не спится, няня, где же кружка?». Так называемая цитата была оценена по достоинству. Одобрительно хмыкнувший Совин достал из кармана своей необъятной пуховки бутылку: – Вот тебе кружка, а няню найдешь себе сам. Вон их сколько возле костра крутилось, когда мы пели, а тебе все не спится. – Так разве с ними уснешь? – брякнул еще не проснувшийся Каценович. – Фи, что за манеры, цитировать бородатые анекдоты в полтретьего ночи! – раздалось из темноты. К стоящим приближался еще один полуночник. – Ах, сестры, ах проказницы, на бал поехали, мужиков ловить. Без меня, значит? – Ну, что ты, Олежек, как же мы без тебя. Тут, можно подумать, кто-то вообще может выпить без тебя! – Правильно, не может. Короче, вот вам стакан, а то не почеловечески это, из горла пить. Упомянутый стакан был единственным, кроме гитары, предметом туристического инвентаря, который Олежек брал с собой на фестивали. Олежек был известен и популярен, и ездил на фестивали по персональным приглашениям. Палатку и прочие атрибуты он не брал никогда, справедливо полагая, что раз уж пригласили в гости, то и спать где-нибудь уложат. Так же решались вопросы кормежки. Единственная вещь, которую Олежек берег и всегда имел при себе, был стакан. Это не был какой-то особенный «Стакан», связанный для хозяина с неким важным событием или подаренный кем-то из великих на добрую память. Нет, это был самый обычный граненый стакан, который Олежек элементарно стырил из автомата газированной воды на автобусной станции перед отъездом на фестиваль. Значимость стакана состояла в его присутствии в нужное время и в нужном месте. У Олежека было необыкновенное чутье – если где-то собирались выпить, то к моменту раскупоривания бутылки тут же возникал Олежек и протягивал стакан. «Выпивка – это не еда, – приговаривал Олежек, – ее по мискам поровну не разложат, и не будут кричать на весь лагерь: мол, идите скорее жрать, а то остынет. Тут надо действовать самому». И он действовал. Воспользовавшись стаканом, выпили по чуть-чуть. Каценович достал из кармана запечатанную пачку «Родопи»: – Угощайтесь, специально для фестиваля держал, а тут чуть не забыл. Все трое закурили, глядя в небо. Для человека, выросшего в большом городе, ночное небо в горах – это откровение. Что мы, городские жители, знаем о звездном небе? Мы забыли даже о самом его присутствии. В детстве, когда нам было интересно все, и мы ходили, задрав голову и раскрыв глаза от удивления и восторга перед новым миром, – да, тогда мы видели звезды. А теперь мы ходим, не замечая ничего, не ходим даже, а бегаем какой-то нездоровой трусцой, которая выработалась от необходимости успеть заскочить в отходящий автобус или сбежать вниз по эскалатору метро. И носимся мы таким образом по городу, озирая окрестности в поисках добычи или, наоборот, – признаков опасности; и если поднимаем взгляд, то не выше магазинных вывесок. Ночное горное небо завораживает. Все трое – и слегка поддатый Олежек, и медведеобразный бородач Совин, и маленький замерзший Каценович – все, словно по команде, замолчали. Не хотелось ничего говорить. Каждый понимал, что любые слова сейчас будут лишними и фальшивыми. В глубине ущелья, по которому дорога спускалась вниз, были видны отблески города. Над домами висел хорошо различимый сверху и слегка флуоресцирующий в темноте слой нездорового тумана. Он покрывал город идеально ровным полукругом, таким ровным, что это наводило на мысль о его искусственном происхождении. Влага конденсировалась на пылеобразных выбросах из трех громадных труб на окраине города. Вопреки расчетам проектировщиков, заводские выбросы не стекали вниз, в долину, а образовали устойчивый ровный купол над самим городом. С другой стороны перед ними возвышался край плато, резко обрывающийся почти непроходимыми отвесными скалами. На этих скалах были проложены маршруты для скалолазания, и в эти дни, параллельно с фестивалем, там проходили соревнования альпинистов. Вчера, за день до начала фестиваля, на этих скалах произошел трагический случай. Главный судья соревнований Хабибулин, мастер спорта по альпинизму, стоял на верхней площадке маршрута и страховал скалолазов. Когда все спустились, он тоже стал спускаться, то есть взял страховочный трос и прыгнул вниз. Говорят, такое случается один раз в сто лет. Он не проверил собственную страховку, а его трос оказался не пристегнутым. Он просто упал с двухсотметровой отвесной скалы. Спасти его не могли: там уже нечего было спасать. Событие трагическое и нелепое. Хотели прекратить соревнования и даже отменить фестиваль. Затем решили все же провести, только отменили «Чайхану» – концерт юмористических песен, изюминку фестиваля. Олежек, уловив только ему ведомые флюиды, встрепенулся, заботливо спрятал свой стакан и исчез. Видимо, где-то поблизости тоже разливали. Каценович и Совин остались вдвоем. – Ты знаешь, – глядя на звезды, медленно заговорил Каценович, – я читал, что кто-то из древних мореходов, то ли поморы, то ли викинги, считали, что звезды – это души моряков, погибших в море. Совин помолчал, повернулся к Каценовичу и спросил: – Ты думаешь о Хабибулине? – Ну да, слушай, если над морем души утонувших моряков, то здесь в горах... – Погибшие альпинисты? Ну-ка, давай для начала еще перекурим. Каценович достал сигареты. Закурили. Через пару минут Совин достал фонарик, блокнот, ручку, и уселся на камень. – Ты знаешь, в этом что-то есть. Не знаю, что и как получится, но попробую. Совин принялся писать, неразборчиво бормоча себе под нос. Каценович знал, что сейчас друга нельзя беспокоить. Он лишь быстро заглянул тому через плечо, прочел первую готовую строфу, чтобы понять размер стиха, и улегся на спину, глядя в небо. Постепенно им овладело знакомое, хотя и редко возникающее ощущение, что оттуда, из вышины, к нему протянулся прозрачный светло-фиолетовый луч, видимый только ему. Постепенно зазвучала музыка, все громче, все внятнее и отчетливее. Когда мелодия обрела реальную, более-менее законченную форму, Каценович сказал Совину: «я сейчас», и ушел за гитарой. Вернувшись, он забрал наброски у Совина, и дальше началась знакомая обоим любимая работа. Строки переделывали, выбрасывали и переписывали заново, мелодию меняли, подгоняли под размер стиха, а стихи изменяли под музыку. Уже на рассвете сделали аранжировку на две гитары и только тогда остановились, глядя друг на друга красными от недосыпа и возбуждения глазами. Песня получилась. Она была в меру лирическая, чуточку философская, как всегда у Совина, и без конкретной привязки к трагическому событию вчерашнего дня. Но, зная всю историю, можно было понять, кому она посвящена. – По-моему, получилось, как ты считаешь? – Ага. И назовем мы ее «Звезда альпиниста». Так? – Так-то оно так, – сказал Совин. – Я о другом подумал. Когда ты ее петь собираешься? Сегодня? – Нет, ни в коем случае. Все слишком узнаваемо, а его ведь даже и не похоронили еще. – Вот и я об этом. Давай просто покажем ее своим и оставим отлежаться. Споем в других местах, а потом, когда убедимся, что получилось, можно будет спеть ее здесь через год, на этом же фестивале. Тогда это будет уместно. Но не раньше. – Согласен. Ты прав, как всегда. – Конечно, прав. – Совин схватил в охапку Каценовича и приподнял его. – Все, пошли спать. По дороге в лагерь они опять наткнулись на Олежека. Тот, по-видимому, успел еще не раз воспользоваться своим пресловутым стаканом, но не был пьян по-настоящему, а находился в сильнейшей эмоциональной прострации: – Я вижу, вы что-то написали, признавайтесь! – А что, вот и первый критик, давай покажем? Они уселись друг напротив друга, расчехлили гитары. В предрассветном тумане голоса звучали чуть приглушенно, как будто боялись потревожить спящие горы. Интересно, каково это – спеть новую, только что написанную песню, ранним утром в горах, едва нарушая предрассветную тишину? Наверное, это ощущение стоит того, чтобы продрогнуть за всю ночь на склоне с гитарой и блокнотом, и с неизменной сигаретой, прикуренной от бычка предыдущей. – Ай молодцы! – закричал возбужденный Олежек. – И как вовремя, к месту, как же я упустил, ну не об этом речь. Значит, прямо сейчас идем в оргкомитет. Этой песней мы втроем открываем фестиваль. Нет, ну здорово, это же первая премия, это же Гран-при! Так, давайте сюда текст, надо кое-что подчистить, и вперед. С этими словами Олежек буквально вырвал у Совина блокнот и начал лихорадочно переписывать слова, приговаривая: – Вот ведь, есть умные люди, подсуетились, вовремя песенку на горячее написали, а я, дурак, чуть не проморгал, все водку жрал. Ну, ничего, сейчас мы это дело поправим… Только вы, ребята, что-то все тут очень мягко сделали. Надо бы добавить гражданственности, что ли, и послезливее надо. Это ж такое дело, всей Горой переживать будем, – продолжал Олежек, переписывая стихи. – Да остановись же ты! – Каценович, наконец, смог вклиниться в Олежекин монолог. – Видишь ли, мы не собираемся ее петь сегодня. – Как «не собираемся», а для чего писали? Всю ночь на холоде просидели, такую тему нашли, и петь не будете?! Да кому она завтра будет нужна?! Не морочьте голову, все равно не поверю. – Правда, Олежек, не будем мы ее сегодня петь, – подтвердил Совин. Олежек озадаченно посмотрел на Совина. Потом быстро заговорил: – А, понял… Без меня хотите выступить? Пожалуйста, я не напрашиваюсь. Только когда вы вдвоем на сцену выпретесь, то сами знаете, там от хохота ничего слышно не будет. Тоже мне, Тарапунька и Штепсель. – Да не в этом дело, Олежек, – Совин попытался объяснить свою точку зрения. – Ты пойми, у людей горе, ты ведь сам Хабибулина знал. Так зачем сейчас, по живому, терзать близких? Пройдет время, уляжется боль, и будем петь эту песню. Тогда она всем понадобится, чтобы память осталась. А писали ее сейчас, потому что именно сейчас, когда болит, и надо писать. Писать, Олежек, но не петь. – Темните вы что-то, не пойму я вас, – пробормотал Олежек. Потом, решившись, сказал: – Так вы точно не будете ее петь? Ну, и правильно, конечно же, правильно, – и быстро ушел, как будто почувствовал, что где-то опять наливают. Утром Каценович пришел на Гору одним из первых. За всеми организационными хлопотами поспать так и не удалось. Поэтому на Гору Каценович пришел со спальником, решив, что, в крайнем случае, доберет свое во время концерта. Большинство исполнителей он знал; все песни, по крайней мере те, что стоило послушать, он уже слышал. Можно было спокойно подремать, пока не начнутся более интересные выступления гостей и лауреатов предыдущих фестивалей. Каценовичу и самому полагалось выступить там, в категории ветеранов. Он лежал на спине, глядя, как бегут и тают в вышине облака. Ощущение радости от новой песни все еще переполняло его. Гора заполнялась зрителями. Одни, как и Каценович, раскладывали спальники, другие – счастливые обладатели надувных резиновых матрасов, – с натугой надували их слабенькими насосами. Многие обходились листами целлофана. Для самых непоседливых существовал привязанный к попе кусок пенопласта. Приспособление давало возможность переходить с места на место, мгновенно усесться на приглянувшейся кочке, и не занимало руки при переноске. Между тем, возле сцены собрались участники конкурсного концерта. Расселись на стульях за нелепо выглядевшим на горном склоне письменным столом члены жюри. Председатель оргкомитета поднялся на сцену и объявил официальное открытие фестиваля. – Дорогие друзья, – раздался голос председателя жюри, – Все мы помним о трагическом происшествии, когда погиб мастер спорта, судья республиканской категории Хабибулин. Олег Николаев, в память об этом событии, написал песню. Песня называется «Звезда альпиниста», и посвящается погибшему альпинисту Хабибулину. Мы решили, что сегодняшний конкурсный концерт будет открыт именно этой песней. На сцену вышел Олежек. Непонятно, как он умудрился, но, как и всегда на сцене, он был гладко выбрит, подтянут и аккуратен. Он даже наложил небольшой сценический грим и подвел глаза. Он запел. Его песня не была прямым плагиатом с Совинского варианта. Да и от музыки Каценовича там мало что осталось. Но все равно это была та же «Звезда», только переделанная в расчете на сиюминутный успех. Все строилось на том, чтобы вызвать реакцию людей, которые только что пережили это горе. Все было предельно конкретно. Искусством, творчеством здесь не пахло: это была работа в духе передовицы местной газеты. Такие произведения пишутся для разового исполнения на конкурсе, чтобы получить приз. Жюри не могло просто так отмахнуться от грамотно написанной песни на актуальную тему. Кроме того, в состав жюри обязательно входил представитель обкома комсомола, который оценивал песни исключительно в соответствии с текущим моментом. Поэтому все лишнее в таких песнях выбрасывалось. Потом их забывали, а порой и стыдились. К такому трюку прибегали не многие – фестивальные пряники не так привлекательны, чтобы потом из-за них терять репутацию. Но сейчас Олег на это пошел. Неожиданно его выступление было прервано. Совин, как всегда находившийся в гуще событий, взобрался на сцену и отобрал гитару у Олежека. Он схватил его за грудь и начал трясти. Ветер доносил в микрофон обрывки фраз: «стервятник... я же объяснял... как ты посмел именно сегодня?..». Ситуация становилась все более неприглядной, когда Каценович потряс головой, и туман перед глазами рассеялся. Олежек, как ни в чем не бывало, продолжал петь их изуродованную «Звезду». Совина на сцене не было, он никуда не вылезал, а сидел рядом с Каценовичем. Только вот разве что слова про стервятника он, действительно, говорил. Тихо так говорил, чтобы слышали только они вдвоем. Ошеломленный Каценович повернулся к Совину: – Мне сейчас привиделось, что ты поднялся на сцену и набил ему морду. – Эх, дружище, – задумчиво пробасил Сова, – набить морду – дело нехитрое. Если бы это помогало, здесь полгоры сидели бы с расквашенными мордами. Уж в жюри, по крайней мере, точно есть пара-тройка морд, на которые у меня кулаки чешутся. Его прервали громкие аплодисменты. Олег закончил петь и спускался со сцены. Он, еще стоя на сцене, разглядел среди зрителей наших друзей, но не подошел к ним, а затесался в толпу, что крутилась позади столика жюри. Там он, похоже, чувствовал себя в безопасности. – Вон, видишь, и Олежек это понимает. Сейчас все уляжется, мы успокоимся, и он объяснит нам, что это совершенно разные песни, и что нам остается наш вариант. Мы же сами сказали, что здесь, на фестивале, мы ее петь не будем. А он считает, что надо было обязательно спеть про Хабибулина. И будет прав, и ничего мы ему не сможем сделать. Даже обвинить в том, что украл песню, не можем: вот она, тема, у всех на глазах все произошло. Ну, одновременно написали похожие песни, так ведь это нормально, вместе отреагировали на трагедию. Где там твои «По жопе»? – Какие жопы? – оторопело спросил Каценович. – «Родопи» твои где, говорю. Сигареты давай, – уточнил Совин. Он взял сигарету из сильно похудевшей пачки, прикурил, привычно спрятав спичку в необъятной ладони, и глубоко затянулся. – Видишь ли, самое обидное во всей этой истории то, что он нас лишил нашей песни. Ну, не смогу я теперь ее петь, хоть ты меня режь. Я точно знаю, начнем петь, а перед глазами будет стоять эта сволочь. Да еще помахивать лауреатским дипломом. – Что, ему еще и лауреата за это дадут? – Думай сам. Ты уже видел Увалова в деле. Какие у него критерии, тоже понял. Большинство членов жюри смотрят ему в рот. Даже если не согласны, то отношения портить не станут. А Олежек всегда ездит за дипломом, он их собирает. – На фига ему столько? Ну, победил в паре конкурсов, понял, что тебя приняли, ну и хватит по конкурсам выставляться. Не спортсмены же, медали копить. – Ах ты, простая душа. Как это зачем? У него конкретная цель – выступать от Госконцерта. А там нужно и рекомендации, и справки, и определенное количество официальных выступлений. И есть там еще какая-то дополнительная ставка для лауреатов, вот он и старается набрать нужное количество дипломов. Это ты у нас лопух, все за идею поешь. – А ты? – обозлившись, сказал Каценович, – Ты ради чего поешь, и вообще на фестивали ездишь? Тоже какие-то свои интересы преследуешь? А меня одного тут за дурака-энтузиаста держат? Каценович с удивлением заметил, что еще немного, и он перестанет контролировать себя, и скатится в неуправляемую истерику. – Стой, – резко, чуть не закричав, повысил голос Совин, – Молчать, поручик! Он достал из кармана все ту же бутылку, вытащил пробку и протянул Каценовичу: – На вот, отхлебни немного. Каценович выпил, достал сигарету и закурил. Успокоился. – Ну, вот и хорошо, – Совин обнял Каценовича, прижал к себе. – Все в порядке. Он посмотрел на друга, который блаженно зарылся в его пуховку, усмехнулся и добавил: – Все будет хорошо, мужик. Ты спрашиваешь, зачем я на фестивали езжу? Да вот, мужиков настоящих повидать, таких как ты или Мишка. Затем и езжу. Кстати, – добавил он чуть погодя, – я говорил тут кое с кем, Мишку твоего у Увалова отобьют. Будет он петь в заключительном концерте, обещаю тебе. Уставший от переживаний Каценович выбросил недокуренную сигарету, улегся поудобнее и закрыл глаза. Сон, наконец, сморил его. Спал он долго. Когда проснулся, концерт уже кончился, и зрители разошлись. Внизу, в лагере, были слышны голоса: там готовили еду, собирали палатки, потихоньку готовились к отъезду. Должны были подойти автобусы и увезти всех в город, на заключительный концерт. Здесь же, на опустевшей Горе, валялись обрывки бумаги, пустые бутылки и консервные банки, целлофановые пакеты, какие-то деревяшки и черт знает что еще. Несмотря на все просьбы, объяснения и приказы, всегда было одно и то же. После концерта фестивальная гора выглядела так, будто сверху на нее вывалили грузовик мусора, и вся эта дребедень распределилась по склону, будто заняв места ушедших зрителей. Все это означало, что завтра сюда приедет команда хмурых парней из городского клуба туристов, молча и привычно соберет со склона весь мусор. Что можно, сожгут, остатки аккуратно закопают поглубже. И к вечеру, когда на склоне не останется мусора, их лица разгладятся, и они, довольные, уедут домой. Все это значило так же и то, что через пару недель примятая трава выпрямится, ветер и дождь заровняют следы от стоявшего здесь палаточного городка, зарастут травой потухшие костры, и гора снова обретет свой первозданный вид. И все вернется в свое обычное русло, разве прибавится чуть седых волос, да наметится новая морщинка под глазами. И останутся новые песни, которые так хорошо петь с друзьями. И всегда остается возможность снова бросить все дела, взять отпуск за свой счет и поехать через всю страну в переполненном плацкартном вагоне. Чтобы разбить палатку в лесу и сидеть у костра, и слушать, и петь песни, и просто общаться. И, может быть, опять просидеть полночи с другом и написать с ним новую песню. «Все это меня еще ждет», – сказал себе Каценович, и пошел вниз к дороге, где уже гудели автобусы. Глава 18
…Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…
Я вновь очутился в своем кабинете. Время здесь не менялось, по-прежнему было около трех часов дня. Я перестал удивляться временным парадоксам. Вполне достаточно других забот. – Привет, я вернулся, – сообщил я вслух своему невидимому помощнику и консультанту. Я до сих пор толком не понимал, что такое я сотворил себе в помощь. Мысленно я продолжал называть его компьютером, хотя вслух этого уже не говорил: это немыслимое, точнее, – мыслящее существо имело характер капризного ребенка и уже намекало мне, что компьютером его называть не стоит. – Ну и как? – Похоже, медиум идеальный. Мне было очень уютно. Но почему именно Каценович? Он ведь даже живет не в столице. Как я через него выйду на Сергея? – Александр Леонидович, я вас предупреждал, что это будет непросто. Я обследовал более сотни личностей: начал с компании Арика, затем постепенно расширял круг, пока не наткнулся на него. Я уверен, с ним вы прекрасно поладите. – Я тебе доверяю, хотя и не уверен, что ты не задумал что-то еще. Я здесь стал старым и мудрым. И теперь знаю, что никто ничего не делает просто так, все преследуют свои, не совсем понятные мне цели. – Ах, Александр Леонидович, дорогой мой! – рассмеялся компьютер. – Это не мудрость, а паранойя. Расслабьтесь и получайте удовольствие от того, что у вас есть. Странное предложение, но делать нечего. – Ну, хорошо, – согласился я, – у меня есть Каценович, который живет в другом городе, в двухстах километрах от столицы. – Сто восемьдесят шесть километров, если считать от главпочтамтов. А от границы одного города до ближайшей окраины другого не больше ста семидесяти пяти, – перебил меня голос из-под потолка. Не зря я зову его компьютером, что-то от калькулятора в нем все же есть. – Ты, арифмометр-переросток, не перебивай меня! Какая разница: двести, сто пятьдесят? Что, мне сажать его в автобус и вести в столицу к Сергею? Или послать Сергею телеграмму с просьбой немедленно выехать в пригород, чтобы узнать важную информацию, касающуюся его жизни?! Прямо бульварный детектив. – Не будем горячиться, – примирительно сказал компьютер. По моему тону он понял, что игры закончились. – Завтра утром Каценовича отправят в командировку в столицу, на курсы повышения квалификации. – А как он встретится с Сергеем? – Курсы рассчитаны на месяц. Каценовича в столице знают. Я имею в виду компанию Арика, и всю эту среду. В ближайшие выходные Каценовича пригласят к Арику на домашний концерт. Там будет и Сергей. Остальное – дело техники. Вашей, Александр Леонидович, техники. Я согласно кивнул. Компьютер продолжил: – Я отправлю вас в любой момент их реальности. Можно прямо сейчас отправиться в дом Арика, в тот момент, когда концерт завершится. Самое время спокойно поговорить с Сергеем. – Отлично. Только отправь меня чуть пораньше, и не к Арику, а в гостиницу. Я хочу вместе с Каценовичем прогуляться по городу. – Слушаю и повинуюсь. Вселенная привычно раскололась и соединилась. Я опять был в сознании Каценовича. Как и в прошлый раз, все прошло без проблем, только сильно болела голова. Но теперь простого присутствия мне было недостаточно. Я решил провести эксперимент. Мягко, не напрягаясь, я спросил у Каценовича, который час. Каценович тут же поднял к глазам руку с часами. Я посмотрел на них: это были модные в то время электронные часы с календарем. Время было подходящее – утро субботы. Я усилил свое влияние, и неожиданно Каценович просто уснул. Он отключился так внезапно, что я едва успел взять на себя контроль за телом, иначе он бы просто грохнулся на пол. Отлично. Тело Каценовича было в полном моем распоряжении. Можно начинать операцию. Первым делом следовало разыскать тетрадь Сергея. Компьютер обещал переместить ее вместе со мной. Скорее всего, она находится где-то здесь, в комнате. Я по очереди осмотрел шкаф, тумбочку, заглянул под подушку и приподнял матрас. Хотел поискать в ванной комнате, но вовремя вспомнил, что таковая в номере отсутствует. Тогда я взялся за личные вещи Каценовича. Чувствуя себя страшно неудобно, я перерыл содержимое его чемодана, но ничего не нашел. Затем по возможности аккуратнее уложил вещи обратно, стараясь соблюдать первоначальный порядок. Агент тайной полиции из меня не получился: если Каценович будет приглядываться, то обязательно заметит, что в его вещах кто-то рылся. С другой стороны, Каценович тоже не шпион, и вряд ли станет проверять свой чемодан на предмет, «а не делали ли там обыск в его отсутствие?». Я тяжело вздохнул. Оставалось выпотрошить огромную сумку с покупками, сделанными Каценовичем в столичных магазинах за неделю. Мне так не хотелось этого делать, что я решил поступить иначе. Я потихоньку разбудил Каценовича, так чтобы он только слышал меня и мог отвечать, не больше: – Каценович, ты знаешь, где тетрадь, которую я ищу? – Знаю, – лаконично ответил Каценович. Я обрадовался. Значит, все в порядке и тетрадь здесь. Я продолжил: – Подскажи, пожалуйста, где она? – Она на месте, как всегда. – Будь добр, расскажи, а где у нее место? – В кармане чехла гитары. Все нормальные люди носят тетрадки со словами песен в кармане чехла. Это был сюрприз. Я рано радовался. Оказывается, Каценович имел в виду лишь свою тетрадку-песенник. В принципе, верно: для него это была самая большая ценность, и отвечая на вопрос о тетради, он автоматически имел ввиду именно свой песенник. На всякий случай, я все же взял в руки зачехленную гитару. Снаружи, сбоку к чехлу был пришит вместительный карман, закрывавшийся на молнию. Я открыл его. В кармане лежал комплект запасных струн и прочие мелочи, которые стоит иметь при себе гитаристу. Кроме этого в кармане лежали две почти одинаковые общие тетради. Одна из них была песенным архивом. А вот вторую я узнал сразу. Это та самая Сережкина тетрадь, на поиски которой я угробил половину утра. Компьютер, зная психологию Каценовича, разместил мое сокровище в его персональном сейфе. Убедившись, что все в порядке, я освободил Каценовича, а сам устроился в дальнем уголке его сознания. План действий мы с ним уже составили: перед тем как зайти к Арику, мне хотелось немного погулять по городу. Каценович честно постарался показать мне все местные достопримечательности. Моим первым впечатлением от увиденного стал царивший вокруг красный цвет. Город был красным. Бесконечные флаги и огромные транспаранты с лозунгами виднелись повсюду. На доме напротив висел огромный агитационный щит, закрывая собой окна нескольких квартир. Я мысленно посочувствовал жильцам. Мы шли по прямому, непропорционально широкому проспекту. По дороге с завыванием проносились переполненные троллейбусы, громыхали трамваи. Автомобили, в подавляющем большинстве старые, ехали осторожно, огибая выбоины в асфальте. Вдоль проспекта тянулся красивый благоустроенный тротуар, но между ним и ближайшими домами лежал десятиметровый участок глиняной целины. От троллейбусных остановок по направлению к домам отходили утоптанные тропинки. Сейчас, летом, пустырь был покрыт толстым слоем знаменитой среднеазиатской пыли. Я представил себе, каково добираться по этим тропинкам во время дождя, и подивился строителям. По проспекту мы дошли до станции метро. В отличие от помпезного московского метрополитена, в котором я, можно сказать, вырос, здешнее метро было маленькое и уютное. Поезд ничем не отличался от привычного мне московского, все было таким узнаваемым, домашним. Я закрыл глаза и полностью погрузился в знакомый с детства ритм движения. Можно было легко представить, что я снова в Москве. Привычный перестук колес успокоил меня, головная боль прошла. Проехав две станции, мы вышли из вагона, прошли через зал и оказались в подземном переходе. Наверх вели широкие гранитные ступени. Пока мы поднимались, я загляделся на стены перехода, которые, как и зал станции, были выложены красивым местным мрамором. Наконец я поднял глаза, вздрогнул и порадовался тому, что контроль над телом сейчас у Каценовича. Наверху, прямо напротив выхода из подземного перехода, стоял гигантских размеров транспарант с портретом руководителя компартии республики. По мере того, как пассажиры метро поднимались по лестнице, этот портрет возникал перед ними, как встающее на рассвете солнце. А если засмотреться по сторонам, а потом резко поднять голову, то портрет вставал перед прохожим сразу во всей своей красе. Так и случилось со мной. Пока я приходил в себя от полученного шока, я услышал за спиной детский плач. Я оказался не единственным, на кого подействовал портрет. Маленький мальчик, лет трех-четырех, шел за ручку с мамой и смотрел по сторонам, думая о чем-то своем. Внезапно он поднял головку и обнаружил, что на него в упор смотрит огромное лицо с портрета. Испуганный ребенок заплакал. Мать, не разобравшись в чем дело, громко спросила его: – Что случилось, мой маленький? Кто тебя испугал? – Дядя! – Какой дядя, где? – женщина остановилась и недоуменно огляделась по сторонам. – Вон тот дядя! – закричал малыш, показывая пальцем на портрет. – Я его боюсь! – Ну, что ты, этот дядя очень хороший! – Теперь уже была напугана мать малыша. – Нет, он плохой, – громко, на весь переход кричал перепуганный карапуз. Не вдаваясь в дискуссию, женщина схватила ребенка на руки и, шепотом отчитывая сынишку за что-то ему непонятное, бегом поднялась по лестнице, свернула за угол и исчезла из нашего поля зрения. Я понял, что прогулка по городу мне надоела. Мы проходили мимо гастронома, и я предложил Каценовичу зайти туда. Перед входом в магазин я взял контроль в свои руки. Сейчас это давалось мне совсем легко. Каценович как бы засыпал на это время, и я свободно управлял его телом как своим собственным. «Мы идем в незнакомый дом, – подумал я. – Надо купить что-нибудь для хозяев, не идти же в гости с пустыми руками». Я стал раздумывать: что купить? Пусть это будет нейтральный стандартный набор. Он хорошо подойдет для незнакомой компании. Значит так: куплю большую коробку шоколадных конфет, желательно покрасивее, и бутылку вина. А какое вино выбрать? Это, конечно, вопрос серьезнее, чем покупка шоколадных конфет. По вину, которое приносит собой гость, можно много о нем узнать. Я решил, что возьму красное сухое каберне – Совиньон или Мерло. Это все пьют с удовольствием. Гостя, принесшего с собой такое вино, это характеризует как человека серьезного, с хорошим вкусом. Войдя в магазин, я откровенно изумился. На полках стояли крепостные стены из одинаковых рыбных консервов в пожелтевших от старости бумажных наклейках. В соседнем отделе меня встретила ровная шеренга коробок с макаронами. Витрины холодильников перед этими полками были отчасти украшены теми же консервами и макаронами, а отчасти – просто пусты. В обоих отделах покупателей не было. Скучающие продавцы скользнули по мне невидящим взглядом, и вновь вернулись к апатичному безделью. Я прошел в соседний зал. Там картина была другой, жизнь била ключом – в мясном отделе давали вареную колбасу. Очередь была огромная. Над продавцом висело объявление, написанное крупными буквами: «Сегодня обслуживаются жители третьего участка – улицы Кренкеля, Шота Руставели (нечетная сторона) и Фирдоуси (четная сторона)». Мое внимание привлек лист бумаги, висевший на стене: «Нормы отоваривания мясных талонов колбасными изделиями и мясными консервами». Мысленно ужаснувшись словосочетанию «отоваривание мясных талонов», я стал читать дальше. Под заголовком была приведена подробная таблица для пересчета веса продуктов на килограмм мяса. Я с удивлением узнал, что один килограмм мороженого мяса по талонам приравнен к ноль целым семистам пятидесяти граммам колбасы вареной или шестистам сорока граммам колбасы твердого копчения. Я подивился такой математической точности расчетов. Еще большее удивление вызвала строка, извещающая, что вместо одного килограмма мяса покупатель может приобрести одну целую и две десятых банки китайской тушенки «Великая Стена». Я попытался представить себе одну целую и две десятых банки тушенки, и понял, что схожу с ума. Я быстро просмотрел оставшиеся строчки и заглянул в конец. Автором этого документа оказался отдел торговли горисполкома, о чем свидетельствовала огромная фиолетовая печать. Кто-то из нас двоих, – либо я, либо горисполком, был явно не в себе. Буквально через секунду я успокоился. Я все вспомнил и все понял. Я не попал в другое фантастическое измерение, в некий сюрреалистический мир. Нет, мир вокруг меня был абсолютно и безоговорочно реален. Это была та самая, давно и счастливо забытая мной реальность социалистического общества на пике своего существования. Продовольственная Программа и борьба за трезвый образ жизни, талоны, карточки и пустые магазины. «Так что же все-таки выберем, – спросил я себя, горько усмехнувшись, – Совиньон или Мерло?». Я вспомнил обычный израильский супермаркет, в котором раз в неделю делаю покупки, этот нескончаемый поток покупателей, запасающих продукты и прочие атрибуты домашнего хозяйства. Я вспомнил, как первое время после приезда ошалело глядел на огромные магазинные тележки, битком забитые самой разнообразной снедью. Я провожал их удивленным взглядом и все никак не мог понять: почему же там, в магазине, все это изобилие никак не кончается? Мое удивление продолжалось несколько дней. Затем удивление сменилось спокойным пониманием того, что это и есть норма. Как раз вот эти нагруженные с горкой тележки еды, шампуней, туалетной бумаги и всего прочего необходимого для дома; эти магазины, в которых никогда ничего не кончается, вот это и есть нормальная жизнь. Все остальное – просто неправильно. Именно так и должно быть. Для этого не нужны какие-то специальные постановления правительства. Не нужно делать революции и калечить миллионы человеческих судеб. Не надо воевать ни на полях сражений, ни на трудовом фронте. Надо просто работать. Работать много и тяжело. И получать за эту работу столько, чтобы больше не думать о том, где достать деньги. И не мешать зарабатывать другим. И не завидовать тому, кто заработал больше. Интересно, как в свое время у нас воспитывали чувство презрения к людям, живущим в подобной «роскоши». Нам внушали, что общество потребителей не имеет духовных ценностей, что оно лишено будущего. Почему-то считалось, что человек, который всегда может поставить себе на стол любимые продукты, да еще в любом количестве, будет обязательно духовно неполноценным. Нам говорили, что человек, который в собственном автомобиле подъезжает к обувному магазину и останавливается перед выбором из десятков образцов туфель, пошитых на лучших фабриках мира, никогда не сможет написать «Повесть о настоящем человеке», или снять что-нибудь подобное «Войне и миру». Мы искренне считали, что только полуголодный, нищенски одетый советский человек имеет право на высокую духовность. Я огляделся вокруг. Чем провинились эти люди, что их унижают стоянием в бесконечных очередях перед полупустыми прилавками? За чьи грехи они расплачиваются, сидя часами на собраниях и митингах, слушая речи, которым не верят ни сидящие в зале, ни те, кто произносит их с трибуны? Почему они обречены всю жизнь работать за мизерную зарплату, на которую все равно нечего купить, а в старости получать уже вовсе нищенскую пенсию? Ответов на эти вопросы не существует. Они неверно сформулированы. Эти люди ни в чем, и ни перед кем не виноваты. Они достойны лишь уважения и самого высокого восхищения. Несмотря ни на что, подавляющее большинство моих бывших соотечественников не превратилось в подонков и ублюдков, целью жизни которых стало урвать себе хоть кусочек от скудного общего пирога. В тяжелых, а порой и откровенно невыносимых условиях, люди продолжали жить обычной жизнью: работали, женились, растили детей, ходили в гости, читали книги. Пили водку, изменяли женам. Строили дома, выращивали хлеб – делали все, чем занимались люди до них, и будут заниматься после. Они не задумывались и даже не осознавали, что каждый день, каждую минуту их подвергают чудовищным унижениям. Поколение наших родителей – люди, всю свою жизнь прожившие в СССР. Многие из них родились и умерли, так и не узнав, что бывает другая жизнь кроме той, которую им навязали. Низко поклонимся им и обнажим перед ними головы. Они заслужили это. Какая же любовь к жизни была заложена в этих людях! Какая сила воли помогла им остаться нормальными порядочными людьми. Они сумели пронести через всю, такую нелегкую жизнь, свои гордость и благородство. Они не только остались нормальными работящими людьми, но и сумели вырастить детей, привить им те же понятия о чести и человеческом достоинстве, которые у них никто не сумел отобрать. Я еще раз огляделся вокруг. Мне почему-то стало неловко за свое сегодняшнее благополучие перед людьми, стоящими в очереди. Нет, так дело не пойдет. Нельзя раскисать, впереди еще масса дел. Я вернулся на свое место наблюдателя в сознании Каценовича и предоставил истинному его хозяину полную свободу действий. Каценович уже привык к небольшим периодическим провалам памяти и, ничуть не удивившись, принялся за дело. Он привычно осмотрелся, с сожалением отметил, что без столичной прописки колбаса ему не светит, и отправился прямиком в кондитерский отдел. Через десять минут мы уже выходили из магазина гордыми обладателями бисквитного торта «Сказка». Все было в порядке. Мы вновь спустились в метро, и поехали к Арику. Глава 19
Ну, вот и опять застолье.
Каценович в последний раз сверился с адресом в записной книжке и нажал на кнопку звонка. Калитку нам открыл сам хозяин. Он сразу узнал Каценовича и полез обниматься. Черт их знает, этих интеллектуалов, откуда они понабрались таких привычек, как обязательное объятие мужчин? Может быть, подражают бывшему генсеку, который не пропускал ни одного гостя без того, чтобы не поцеловать того смачно в губы? Впрочем, генсек – не тот человек, привычкам которого станут следовать в этих кругах. Как бы то ни было, Арик с Каценовичем вдоволь наобнимались и произнесли все положенные в таких случаях слова. Арик проводил нас во двор. Там уже собралась большая компания. Арик громко представил Каценовича всему обществу и убежал в дом по каким-то своим хозяйским делам, предоставив гостя самому себе. Каценович не растерялся: он уже заметил пару знакомых физиономий, и через пять минут чувствовал себя равноценным членом компании. Все расселись за длинным столом, накрытом там же, в саду. Угощение не удивляло разнообразием, зато все было сытно и в достаточном количестве, что само по себе вступало в противоречие с увиденным мной в магазине. На столе стояли салатницы с двумя видами салатов: винегретом и так называемым оливье. Кроме салатов в отдельных тарелочках лежали ломтики вареной колбасы и местные, жутко острые соленые огурцы. Как выяснилось впоследствии, именно эти огурцы лучше всего подходили в качестве закуски для местной плохо очищенной водки. Оба салата женщины приготовили на кухне в больших мисках, – скорее даже, в небольших тазах, и докладывали в салатницы на столе по мере необходимости. Пили ту самую местную водку, больше из напитков на столе ничего не было. Когда общее застолье закончилось, внимание переключилось на Каценовича. Он достал гитару. Я не стал ему мешать, расположившись в уголке его сознания и наблюдал за происходящим. Выступать Каценович умел и любил. Для начала он спел нескольких хорошо известных популярных песен. Многие из присутствующих с удовольствием ему подпевали. Постепенно он перешел к собственным песням. Их тоже слушали внимательно, песни понравились. Доброжелательная атмосфера воодушевила Каценовича. Он сменил репертуар на юмористические песни, исполнение которых сопровождались взрывами хохота. К концу выступления мой разошедшийся медиум исполнил известную в то время кантату, посвященную партии. Он практически не переделывал ее, только заменил слово «партия» на «мафия». Пародируя известного певца, он пафосным голосом вывел первый куплет: «Мафия! Тебе я славу пою, мафия!». Дальнейшее разобрать было уже трудно: присутствующие зашлись хохотом, шумно выражая свое одобрение. Кантатой Каценович и закончил свое выступление, понимая, что уже вошел в местную историю. Концерта как такового, когда все чинно сидят перед исполнителем, не было. Все оставались на своих местах за столом, прекратив на время разговоры и обернувшись в нашу сторону. В перерывах между песнями многие продолжали выпивать и закусывать. Раечка с Ариком сидели в разных концах стола и общались лишь по своим хозяйским делам. Раечка выглядела прекрасно. Она беспрерывно улыбалась, шутила с гостями, болтала без умолку. Она будто светилась изнутри. Ощущение какой-то бурной ненормальной радости буквально выплескивалось из нее. Арик, наоборот, был неразговорчив. Он плохо выглядел, круги под глазами говорили о том, что он уже не первый день страдает бессонницей. Он выглядел уставшим и измотанным. Рядом с Ариком сидел Вадим, и в продолжении всего вечера регулярно наливал ему в рюмку. Усилия Вадима не прошли бесследно. К тому времени, когда Каценович закончил петь, Арик был пьян до состояния невменяемости. Пьяно хихикая, он стал громко рассказывать, как в шестом классе перед физкультурой они с приятелем полезли подглядывать в раздевалку за девочками. Раечка отреагировала мгновенно. Она с улыбкой подошла к Арику, и энергично зашептала ему на ухо, не переставая при этом улыбаться. Ее слова, по-видимому, не соответствовали такому милому выражению лица. Арик прервался на полуслове. Он неуклюже поднялся из-за стола, пробормотал что-то невразумительное о том, что надо меньше пить и, пошатываясь, отправился в дом. Раечка между тем уселась на его место рядом с Вадимом и продолжила играть роль обаятельной хозяйки. Минут через десять она поднялась из-за стола и сказала, что пойдет приготовит чай. Она прошла несколько шагов по дорожке по направлению к дому. Затем остановилась, как бы вспомнив чтото, обернулась и обратилась к Вадиму. – Вадим, кончай пить водку, тебе тоже хватит, а то сподобились на пару с моим мужем. Пойдем лучше, поможешь мне приготовить чай. Вадим кивнул головой и тоже поднялся. Он подошел к Раечке, и они вместе скрылись в доме. На их уход не обратили особого внимания. Большинство присутствующих были заняты разговорами, кое-кто все еще допивал остатки. Некоторые из тех, кто проследил за ушедшей хозяйкой, неодобрительно покачали головами. Я подумал, что наш гостеприимный хозяин будет следующим кандидатом на освободившееся после Сереги место в нашем общежитии. Евлампий, наверное, уже ходит кругами где-то поблизости, а Тихон диктует Эллочке приказ о зачислении Арика на должность руководителя музыкального кружка. А может быть, Тихон даже решит создать из заключенных симфонический оркестр. Да нет, поправил я себя, вспомнив характерный непритязательный юмор моего чертова работодателя, скорее уж не симфонический, а камерный, с зарешеченным окошком. Но, в конце концов, я не могу всю жизнь заниматься тем, чтобы исправлять исковерканные судьбы. У меня есть конкретная цель, и пора вплотную ей заняться. Я мягко отстранил Каценовича от управления собственным телом, и тот привычно уснул. Я обвел глазами компанию в поисках Сергея. Он, как обычно, сидел у угла стола. Танюша пересела к кому-то из подружек, сидевшие рядом с ним тоже разбрелись, и вокруг него образовалось пустое пространство. Сергей как будто не замечал этого. Он сидел в одиночестве, курил эти ужасные местные сигареты без фильтра в красной бумажной пачке, и прислушивался к разговорам вокруг. Я решил воспользоваться ситуацией и подсел к нему. Сергей мне искренне обрадовался. Он взял со стола две рюмки и наполнил их. Одну взял сам, вторую протянул мне: – Давай выпьем за знакомство. У тебя отличные песни, мне понравились. Я поблагодарил, и с сомнением посмотрел на водку. На мой взгляд, выпито было уже более чем достаточно: – А может, не стоит? Раечка сейчас чай принесет. Сергей хмыкнул в ответ: – Пока она принесет чай, мы целую бутылку успеем приговорить. Ты так и не понял, что происходит? Я сделал вид, что начинаю догадываться, и неуверенно спросил: – Ты хочешь сказать, что Раечка и Вадим… – Ну да. Райка совсем охамела. Раньше она никогда у себя дома ничего Вадиму не позволяла. А теперь смотри, что вытворяют. Прямо у всех на глазах. Напоили Арика, чтоб не мешал. Так что не рассчитывай на чаек, пей то, что есть. Я решил не развивать тему – тем более что Сергей спохватился, и уже сам жалел, что завел разговор на такую тему с малознакомым человеком. Мы молча выпили. Момент для меня оказался самым подходящим. Неожиданно выяснилось, что после такой серьезной и длительной подготовки в самый решающий момент операции я не знал, что делать. Разговор предстоял тяжелый. Я не профессиональный психолог и не умею вести такие серьезные разговоры. Совсем некстати я вдруг вспомнил, что Сергей чуть не заехал по морде Виктору, а ведь тот был именно психологом. Я мучительно размышлял, как мне себя вести, с чего начать. Внезапно понял, что мне больше не надо ничего делать самому. Я вспомнил, как до сих пор работала моя магия. Я все подготавливал и давал указание на конечный результат. Дальше все происходило как бы без моего непосредственного участия. Более того, мои самые первые магические опыты ясно предостерегали, что мне категорически нельзя заниматься проработкой мелочей – только руководство на самом общем уровне. Поскольку мой визит в эту теплую компанию, и особенно – предстоящий разговор с Сергеем, были результатом моего магического вмешательства, то логично будет предположить, что когда действие вошло в свою завершающую стадию, мне следует просто выпустить на свободу давно созревшую магию и предоставить ей действовать самостоятельно, – благо, до сих пор она прекрасно понимала, что от нее требуется. Так я и поступил. Я попытался высвободиться из тела Каценовича и превратиться в свободного внешнего наблюдателя. В то же мгновение я обнаружил, что смотрю на мир уже не глазами Каценовича, а наблюдаю всю картинку с небольшого расстояния сверху. Я понял, что нашел правильное решение и скомандовал оставшемуся внизу Каценовичу: «Давай!». В ту же минуту я увидел, как мой бывший медиум повернулся к Сергею и стал что-то говорить ему. Скорее всего, это тоже был не Каценович, а до сих пор не понятное мне магическое существо, которое я условно называл в своем кабинете компьютером. Думаю, что именно этот потрясающий парень и взял на себя всю самую тяжелую часть работы. Мне оставалось только наблюдать за собеседниками со стороны. Я так нервничал, что даже не пожелал ничего слышать и «выключил звук», после чего мне оставалось только догадываться о происходящем внизу по внешним проявлениям. Разговор оказался долгим. Некоторое время Сергей с недоумением смотрел на Каценовича, который усиленно пытался что-то ему объяснить. В самый критический момент, когда Сергей, похоже, собирался прекратить разговор, Каценович достал из кармана чехла тетрадку. Сначала он просто положил ее на стол и серьезно предупредил о чем-то Сергея. Сергей нетерпеливо кивнул и взял ее в руки. Он открыл ее, пролистал и положил обратно. Посмотрел на Каценовича и что-то спросил. Каценович ответил, затем налил большую рюмку водки и протянул ее Сергею. Тот машинально выпил и снова взял в руки тетрадь. Он листал страницы, потеряв чувство времени, забыв о том, где находится. Наконец, Каценович прервал его чтение. Им нужно было еще о многом поговорить. Я не стал следить за разговором и мысленно пожелал перенестись по времени в его конец. Разговор, судя по всему, занял не менее часа. Часть гостей к этому времени разошлась, оставшиеся пили чай. Раечка и Вадим сидели за столом, на их лицах блуждали довольные улыбки. Я присмотрелся к Сергею. По его виду понял, что он сумел справиться с шоком и принял всю свою историю. Он изменился на глазах. Его рука непроизвольно поглаживала корешок тетрадки. Он сидел выпрямившись, в его позе была видна готовность к немедленным действиям. Главное, что в нем изменилось – были его глаза. Я присмотрелся внимательно. Я прежде не видел у него такого взгляда: ни у этого Сергея, который сидел здесь за столом, ни у того, с которым я познакомился в своем общежитии в Аду. Взгляд был чистый, ясный, он не был больше направлен вглубь собственной беды. Это был взгляд человека, перед которым расстилалось безоблачное счастливое будущее. Сергей медленно поднялся из-за стола и крепко пожал руку Каценовичу. Он подошел к Вадиму и прошептал тому на ухо. Вадим встал, и они отошли в темный угол двора. Раечка, почуяв неладное, увязалась было за ними, но тотчас же вернулась обратно, остановленная резкими словами обоих мужчин. Когда они остались одни, Сергей негромко сказал пару фраз, затем о чем-то спросил Вадима. Тот кивнул головой, и тут Сергей неожиданно резко с силой ударил Вадима в челюсть. Вадим упал, не издав ни звука. Сергей подхватил обмякшее тело под мышки и заботливо усадил на землю, прислонив спиной к забору. Затем вернулся к столу, попрощался со всеми, обнял удивленную Танюшку и они вдвоем пошли к калитке. Раечка молча пошла проводить их. Она открыла им дверь, и только там решилась спросить о Вадиме. Сергей молча показал ей, где валяется ее любовник, и так же молча вышел, увлекая за собой свою жену. Дело было сделано. Судя по всему, я даже перевыполнил план. Было ясно, что после такого объяснения Вадим больше никогда не перешагнет порог этого дома. Раечка тоже поняла, что следующий удар в челюсть достанется ей. Конечно, будут слезы, трагедии и скандалы. Когда Раечка окончательно поймет, что проиграла, она начнет мстить Сергею тем, что попытается настроить против него своего мужа. Но это уже были не мои заботы. С такими проблемами мои мужики справятся сами. Главное я сделал: ни Серегу, ни Арика чертям теперь не видать. Можно было возвращаться, но я еще долго следовал за Сергеем и Танюшкой. Они шли, держась за руки, по ночному городу, и увлеченно о чем-то говорили. Я не стал подслушивать. Я просто смотрел на двух счастливых, влюбленных друг в друга и в саму жизнь молодых людей. Они прошли мимо станции метро и двинулись дальше. Я знал, что так они будут идти до самого дома, часа два, не меньше, но это будут для них самые счастливые часы с момента их первой встречи. Глава 20
Маграт невольно вздрогнула.
Домой я вернулся совершенно измученный. Здесь тоже был поздний вечер. День получился чересчур насыщенный. Я решил отложить все оставшиеся дела на завтра и отправился спать. Проснувшись утром, вспомнил, что сегодня понедельник. На работу я решил не идти. Первым делом мне надо заглянуть в общагу и посмотреть, как там дела. Я надеялся, что Серегу там уже не застану. Если верить в теорию моего компьютера, то он должен был исчезнуть примерно в тот момент, когда другой Сергей на Земле поднялся из-за стола после разговора с Каценовичем, захватил с собой тетрадку с рукописью книги и отправился домой. В этот момент «вилка» истории должна была исчезнуть, и два Сергея, слившись в одно, стали полноценной личностью. В этом я и хотел убедиться. Кроме того, в общаге оставалась Маринка, которая наверняка удивлена исчезновением Сергея. «Да, – подумал я, – потерять двух любимых мужчин за одни сутки – это уже чересчур. Поэтому поторопимся». Я быстро оделся и выскочил из дома. Идти к телефонной будке я не стал, а просто на миг закрыл глаза и тут же открыл их, без удивления обнаружив, что стою напротив здания общежития. Здесь тоже была зима. В воздухе висела промозглая сырость, дул противный холодный ветер, который, казалось, продувал меня насквозь, несмотря на теплую пуховую куртку. Ветер принес с собой затхлый воздух, которого я никогда раньше здесь не замечал. В отличие от моих белоснежных Альп, снег вокруг здания общежития имел отчетливый индустриально-серый оттенок. Местами виднелись талые проплешины; в этих местах из-под снега проглядывала бурая мокрая глина. Стараясь не попасть в грязь, я вошел в здание. Что-то неуловимо изменилось в нем. В пустом коридоре было тихо. Там стоял специфический запах опустевшего жилья. Остро пахло то ли французским деликатесным сыром, то ли грязными носками. Я прошел на кухню. Там никого не было. В раковине, как обычно, лежала грязная посуда; на столе сиротливо стоял Сережин красный чайник. Возле чайника стояла полная окурков консервная банка, приспособленная под пепельницу. Других следов человеческого пребывания на кухне я не обнаружил. Я прошел до двери в комнату Марины и Сергея и открыл ее, заранее зная, что я там увижу. Комната была пуста. На полу валялись рубашка, носки и прочие предметы мужского и женского туалета. Дверцы шкафа были распахнуты настежь, демонстрируя царивший там беспорядок, постель была смята и не застелена. Создавалось впечатление, что жильцы только что вышли, буквально на минутку, и сейчас же вернутся обратно. Однако я знал, что это не так. Отсюда все ушли. Спектакль закончен, сцена опустела, артисты разошлись по домам. Сцена? Артисты? Почему у меня возникла такая ассоциация? И кто режиссер этого дурацкого спектакля? – Кхе, кхе! А вы так и не поняли? – раздалось за моей спиной. – Вы ведь с самого начала прекрасно знали, что происходит. Только вот не дали себе труда хорошенько подумать. – Евлампий, это вы? – спросил я, оборачиваясь. – Это что, ваша очередная проделка? – Все проделки здесь целиком ваши. Что вы смотрите на меня как ребенок, у которого сломалась игрушка? Сначала сами придумали себе компаньонов по общежитию, потом вам стало с ними скучно, и вы решили переехать в собственный дом. А игрушки забыли на старой квартире. Вот они и убежали, кхе, кхе… – Что вы мне морочите голову, Евлампий? При чем здесь игрушки? Они ведь нормальные живые люди! – Нормальные они или нет, а тем более, живые ли вообще – это вам, конечно, виднее. Только отправили вы их прочь отсюда, так и забудьте. Пусть живут у себя дома, как прежде. А вы больше их не трогайте. И вообще, Александр, что-то вы разошлись. Вам положено сидеть возле компьютера и нажимать на клавиши. Вот и сидите себе! – Вот вас только забыл спросить, где мне сидеть и на что нажимать. Откуда вы взялись на мою голову? Знаете, я тоже сейчас отправлюсь домой. Надоело мне здесь! – Потерпите, милейший, потерпите! Не все так быстро. Сначала отработайте положенное по контракту. А потом поговорим, может быть, и отпустим вас. Евлампий взял пустой стул, поставил его спинкой вперед и уселся на него верхом. – Куда же вы собрались так рано? Нам только-только начало все это нравиться. Только, можно сказать, обжились, а вы уже уходите. Так не годится, любезнейший. Вы нас создали, теперь извольте терпеть. Я уставился на Евлампия. Вот она, та мысль, что не давала мне покоя с самого появления черта в моей квартире в Иерусалиме. Она периодически возникала у меня все время, пока я был здесь, но я никак не мог додумать ее до конца. Теперь все уложилось окончательно. Все стало ясно. Действительно, достаточно внимательно приглядеться к тому, что меня окружало в этом мире. Казалось, я должен был увидеть здесь столько нового и необычного! На самом же деле, я не встретил ничего такого, о чем бы раньше не читал или подсознательно не представлял себе. Все, что я здесь увидел, уже было где-то описано; все окружающее было позаимствовано частично из книг и фильмов, частично – из моих собственных страхов, надежд или просто размышлений о потусторонней жизни. Если внимательно рассмотреть весь этот мир – эту тюрьму, где грешников мучают телевизором; чертей, сидящих за компьютерами; выпивающих и закусывающих ангелов, – все это и раньше жило в моем подсознании. И в момент стресса выплеснулось наружу с такой силой, что приобрело материальные очертания. Мое подсознание сотворило целый мир, и я ушел туда, прячась от обид и напастей окружающей меня реальности, нырнул с головой, как в омут. И этот мир затянул меня. Он стал живым, осязаемым, и ему совсем не хочется снова исчезнуть, превратившись в призрачную нематериальную субстанцию, из которой он материализовался неделю назад. Я огляделся вокруг. Действительно, как я раньше не сообразил? Все, что я видел, все, что творил сам, уже жило во мне раньше. Все было узнаваемым. Значит, действительно, это мое подсознание сыграло со мной злую шутку! Тем лучше. Этот мир выполнил свое предназначение. Я сильно изменился за последнюю неделю. Теперь можно и возвращаться. Не существует прежнего Сашки-букашки, не зря, видимо, меня так дразнили в школе. А существует теперь только Александр Леонидович, будьте любезны именно так, по имени-отчеству, хоть это и не принято это в нашем демократичном, плохо воспитанном Израиле. И будьте любезны расступиться, когда дорогой Александр Леонидович начнет строить свое земное, реальное, а не выдуманное счастье. Не нужен мне больше мой альпийский домик со всеми его прелестями, не нужны ни черти, ни ангелы, ни Ад, ни Рай. Спасибо тебе, подсознание, выручило, вылечило. А теперь – будь добро, подвинься, хозяин возвращается на свое законное место. Я повернулся к Евлампию: – Что ж, будем прощаться. Мне пора домой. Подсознание – вещь хорошая, но засиживаться у вас я больше не собираюсь. Евлампий вскочил со стула: – Ага, значит догадался? В таком случае тебе же хуже. Решил, что мы тебя так просто выпустим? Чтобы, значит, ты пришел в себя и забыл весь наш мир? А мы просто должны будем исчезнуть, и все? Мы категорически не согласны. Нам, понимаешь ли, понравилось существовать! Никуда ты отсюда не уйдешь! Черт начал увеличиваться в размерах. Стена позади него исчезла, и на ее месте выросла шеренга чертей, за ней другая, третья. Черти были вооружены как попало – видимо, схватили впопыхах, что успели. В первом ряду стоял черт в полном облачении римского легионера – с коротким мечом и большим квадратным щитом; другой, рядом с ним, был перевязан пулеметными лентами и держал наперевес неимоверных размеров реквизитный автомат. Стоявшие по бокам от них черти размахивали огромными корявыми дубинками. Еще дальше черти были вооружены уже совсем кое-как. Некоторые сжимали в волосатых лапах отломанные ножки от стульев, виднелись даже метлы и швабры. Тем не менее, вид у войска был самый что ни на есть злодейский. Я рассмеялся, спокойно поднял опрокинутый стул и уселся на него. Не торопясь, сотворил из воздуха гаванскую сигару, аккуратно обрезал концы, достав из кармана элегантную сигарную гильотинку, и тщательно раскурил. Черти, недовольно бормоча что-то невнятное, остановились невдалеке. Евлампий уменьшился до своих обычных размеров и уставился на меня. Я снисходительно посмотрел на него: – Уберите свое потешное воинство, Евлампий. Вам нельзя воевать со мной. Без меня вы не существуете. Если вы убьете меня, то ваш мир исчезнет окончательно и бесповоротно. – А-а, ты и об этом догадался? Но ничего, убивать тебя мы не станем. А вот поучить уму-разуму стоит! – Да не кипятитесь вы! Вы же все равно не сможете меня ничем удивить. Вы – порождение моего подсознания и, следовательно, не придумаете ничего принципиально для меня нового или неожиданного. – А вот это мы сейчас посмотрим, – прорычал окончательно озверевший Евлампий. – Взять его! Черти нестройными рядами бросились в атаку. Я вытянул вперед указательный палец, прочертил перед собой в воздухе горизонтальную линию, и черти уперлись в невидимую стену, отгородившую меня от них. Пока они барахтались, пытаясь пробиться сквозь преграду, я набрал полный рот дыма и выдохнул его в сторону нападавших. Сигарный дым окутал все войско и начал медленно таять в воздухе. Вместе с дымом, отчаянно вереща, неторопливо растаяли и черти. Мы снова остались с Евлампием одни. – Ничего, ничего, – прохрипел он. – У меня еще много таких, тебе на всех сигар не хватит. Замучаешься дымить. Все равно отсюда ты никуда не уйдешь. И это было правдой. Все время, пока продолжался этот военно-патриотический балаган, я пытался уйти из мира своего подсознания и вернуться в реальность. Но у меня ничего не получалось. Мои способности здесь были почти безграничны, но и их оказалось недостаточно для того, чтобы вернуться домой. Для этого мне нужно было полностью разрушить окружающий мир. Но разрушение этого мира, находясь в нем, означало и разрушение собственного подсознания. Это было равносильно самоубийству. Нужно добиться, чтобы мое подсознание отпустило меня само, по собственной воле. – Да перестаньте вы рычать, – прикрикнул я на Евлампия. – Не видите, что ли, у нас сложилась патовая ситуация. Вы не можете меня уничтожить, а я не могу уйти отсюда. Давайте заключим пари. Как положено, устроим состязание один на один. Если я выиграю, то этот мир меня отпускает, если проиграю – остаюсь с вами здесь. Согласны? Евлампий помолчал, обдумывая мое предложение и, видимо, консультируясь с остальными. – А как же мы будем сражаться? – спросил он. – Вы же сами видите: убить вас нельзя. – Я не собираюсь устраивать богатырские единоборства и рыцарские турниры. Сейчас не то время. Давайте сыграем в какую-нибудь спортивную игру… Ну, я не знаю, в футбол или в теннис. Кто выиграл – тот выиграл. Просто и честно. Евлампий опять задумался, потом сообщил: – Мы согласны. – Только без этих ваших штучек, – начал я, но закончить уже не успел. Меня оглушил страшный рев: я оказался на зеленом газоне огромного стадиона. Многоярусные трибуны были заполнены до отказа. На правой трибуне толпились черти. Они размахивали руками, танцевали и пели что-то неразборчивое, но явно – непристойное. В толпе среди болельщиков бегали черные лохматые чертята и раздавали всем желающим бутылки с горячительными напитками. Черти хватали бутылки, одним глотком вливали в себя содержимое, продолжая хулиганить с еще большим воодушевлением. Пустые бутылки непрерывным потоком летели с трибун в мою сторону и разбивались о массивную, чугунного литья узорчатую ограду, отделявшую поле от трибун. На левой трибуне болельщики, как один, были одеты в белоснежные балахоны; у некоторых над головами сияли нимбы. Крылья за спинами беспрестанно хлопали, белые перья мелькали в воздухе, и от этого казалось, что над трибуной кружится снежная метель. Ангелы тоже не являли собой пример для учеников воскресной школы. По их трибуне точно так же бегали чертята с бутылками, ангелы раскуривали самокрутки с марихуаной и выкрикивали непристойности. Над трибунами прямо в воздухе висело огромное табло. На табло ярким огнем пылала надпись «Я : Они». Под ней большими огненными буквами был выведен счет «0 : 100». Перекрывая гул толпы болельщиков, раздался свисток судьи. Команда чертей в костюмах игроков американского футбола готовилась разыграть очередную комбинацию. Черти были как на подбор: высокие и здоровенные, казавшиеся еще больше и страшнее в своих многочисленных щитках, наплечниках, налокотниках и наколенниках. На головах у всех были надеты шлемы, из прорезей которых угрожающе виднелись концы наточенных до блеска рогов. Капитан команды чертей выстроил их в шеренгу вдоль меловой линии на траве. Черти наклонились, упершись лапами в землю и выставив вперед рога. Они били себя хвостами по бокам и рыли землю копытами. Судья в черной бакалаврской мантии и квадратной шапочке выпускника Оксфорда передал капитану мяч. Меня, как и чертей, было одиннадцать. Я расставил себя так, чтобы каждый оказался напротив одного из чертей. Капитан противника ударил по мячу и тот, высоко взлетев в воздух, отправился в сторону моих ворот. Вслед за мячом на мою половину поля устремилась вся команда чертей. Одиннадцать чертей и одиннадцать меня одновременно столкнулись, и десять пар тут же попадали без сознания. Я в последний момент уклонился от столкновения с капитаном, и сделал ему подножку, когда он пронесся мимо. Пока черт с проклятиями поднимался с изрытого копытами газона, я, не оборачиваясь, поднял правую руку вверх и завел ее за спину. Рука вытянулась на всю длину поля и поймала мяч в нескольких сантиметрах от моих ворот. Я крепко зажал мяч в кулаке и дал руке вернуться в нормальное положение. Возвращаясь, рука с огромной скоростью бросила мяч в ворота команды чертей. Несмотря на регбийное обмундирование чертей, ворота на поле стояли обычные, футбольные. В воротах метался чертенок в черном трико и серой вратарской кепке, какие вратари носили в сороковые годы. Кепка была слишком большого размера и постоянно съезжала ему на глаза. Но проблема вратаря была не в этом. Он метался в воротах, мучительно пытаясь решить стоящую перед ним проблему: спрятаться от пулей летящего в него мяча или исполнить свои вратарские обязанности и, несмотря на очевидную опасность, попытаться этот мяч отбить. Судьба распорядилась сама. В последний момент чертенок струсил и попытался спрятаться. В тот же миг мяч резко изменил направление и отправился вслед за вратарем. Он впечатался черту прямо в грудь, поднял его в воздух, влетел вместе с ним в ворота, пробил насквозь сетку и, взмыв высоко в воздух, исчез из виду где-то вдали. Трибуны возмущенно засвистели. Судья остановил игру. На поле выскочили кривляющиеся черти, одетые в костюмы хирургов, с марлевыми повязками на пятачках. Команда ангелов в оранжевых жилетах вывезла на поле двадцать хирургических столов, по числу валявшихся без движения на поле игроков. Каждого из них подняли и уложили на стол. Хирурги заняли свои места над пациентами, и вооружившись кто – скальпелем, кто – огромным мясницким ножом, а кто и топором, приступили к делу. Не обращая внимания на крики пациентов, хирурги принялись с неимоверной быстротой отрезать раненым конечности. Особенно старался черт, чей стол стоял ко мне ближе всех. Он не разменивался по мелочам, а, вооружившись бензопилой «Дружба », аккуратно нарезал лежавшего перед ним на столе черта ровными поперечными ломтиками, подобно тому, как режут на стейки в супермаркетах тушку индейки. Оказание медицинской помощи было завершено. Пациентов сложили в огромные плетеные корзины и унесли. Судья поставил меня и капитана команды чертей в центре поля, и объявил штрафной удар. Вместо мяча судья достал из-под мантии пушечное ядро и передал его черту. Тот схватил ядро, зарычал, размахнулся, и со всей силы метнул его прямо мне в грудь. Засвистел разрываемый снарядом воздух, трибуны взревели. Я видел, как ядро покраснело, раскалившись от скорости. Теперь настала моя очередь. Неуловимое движение руки – и ядро превратилось в теннисный мячик. Мы с чертом находились на центральном корте стадиона Уэмбли. Я слегка отклонился вправо и нанес блестящий удар с лета. Мячик перелетел через сетку и приземлился на другой половине корта. Застигнутый врасплох черт все же успел добежать и отбить мяч невысокой свечой. Я вышел вперед к сетке. Не дожидаясь, пока мяч опустится, я поднял ракетку и исполнил классический удар над головой. Мяч с бешеной скоростью приземлился на половине черта и, не отскакивая, ушел под землю. Трибуны зааплодировали. Возмущенный черт отправился к судейской вышке и, усиленно жестикулируя, начал что-то объяснять судье. Судья отрицательно покачал головой и жестом показал, что сейчас моя подача. Из-за моей спины выскочил чертенок и вручил мне новый мяч. Я подбросил мяч, размахнулся и ударил. Мяч удачно приземлился в угол квадрата, но черт угадал направление удара и был готов к приему подачи. Он радостно зарычал и нанес свой удар по мячу… Раздался вой реактивного двигателя. Прямо на меня надвигалась ракета. Я взял штурвал на себя и выполнил маневр ухода. Пятикратная перегрузка вдавила меня в кресло, в глазах потемнело, затрещали суставы, заныли уставшие сухожилия, мышцы сбились в комок. Я выровнял самолет и развернулся для нового захода на цель. Двигатель, выведенный на максимальные обороты, ревел как сумасшедший. Болельщики на трибунах разошлись окончательно. Они запускали в воздух воздушные шары и дирижабли с нарисованными на них рекламными слоганами стиральных порошков и лозунгами «Мы победим!». Обогнув один из таких шаров, я увидел, как на меня стремительно надвигается самолет противника. Мы шли навстречу друг другу. Я беспрерывно жал на гашетку пулеметов, залпом выпуская бортовые ракеты. Но снаряды проходили мимо, и самолеты неумолимо сближались. В последний момент, избегая лобового столкновения, мы попытались разойтись. Крыло вражеского самолета снесло фонарь моей кабины и врезалось мне в нижнюю челюсть. Я устоял после удара. Сделав нырок, вошел в клинч и попытался восстановить дыхание. Судья развел нас и скомандовал продолжать бой. Я с трудом дышал, перед глазами плавали красные круги. В тесном зале набилось огромное количество зрителей. Черти оглушительно топали и свистели. Ангелы были по-прежнему одеты в свои белые балахоны, но теперь вместо нимбов на головах у них были одинаковые черные котелки. Почти все непрерывно курили огромные сигары, и над рингом висела сиреневая мгла. Воздух казался почти осязаемым, кислорода в нем для моих измученных легких не хватало. Мой противник был не в лучшем состоянии. Ему здорово досталось. Под левым глазом у него наливался краснотой огромный синяк, одного рога на голове не хватало, хвост был наполовину оторван. Лапами в перчатках он отчаянно молотил воздух перед собой, окончательно потеряв способность ориентироваться. На плохо слушающихся ногах я пошел вперед. Я легко ушел от удара левой, проскользнул под его правой лапой и, очутившись перед открытым противником, нанес последний, окончательный удар снизу в челюсть. Удачно проведенный апперкот приподнял черта в воздух. Затем он грохнулся всем телом на настил. Судья отодвинул меня и стал считать, выбрасывая руку с раскрытыми пальцами перед лицом черта, который все равно ничего не видел и не слышал. После счета «десять» раздался гонг. Трибуны заревели. Ничего не видя вокруг себя, почти теряя сознание, я наугад побрел в свой угол и упал на подставленный табурет. Я облокотился на канаты и откинул назад голову. В глазах окончательно потемнело, шум трибун слился в монотонное жужжание. Я почувствовал, как кто-то положил холодную влажную губку на мой пылающий лоб. Глава 21
Со мною происходит нечто ужасное...
Я открыл глаза. Я сидел, откинувшись на спинку дивана, в небольшой, типично израильской гостиной. Надо мной склонилась интересная молодая женщина. Она вытирала мне лоб мокрой губкой. Женщина казалась мне смутно знакомой, но я никак не мог вспомнить, где мог ее видеть. В голове еще перекатывались волны криков чертей-болельщиков. – Где я? – не придумав ничего лучше, осведомился я. – Ну, слава богу, очухался, – облегченно вздохнула женщина. – Ты знаешь, мне сестра говорила, что если человек потерял сознание, а потом вернулся в себя и спросил «где я?», то значит с ним все в порядке. – А разве спрашивают что-то еще? – автоматически спросил я. Какая-то зараза, сидящая во мне, иногда заставляет меня выдавать подобную чушь в самое неподходящее время. Однако неизвестная собеседница всерьез задумалась над моим вопросом. Затем рассмеялась, прижалась ко мне и поцеловала: – Опять прикалываешься, да? Ой, я так испугалась! Ты сидел со мной рядом, мы смотрели телевизор, вдруг ты побледнел, откинулся на спину и потерял сознание. Я тебя и по щекам била, и водой брызгала, думала уже скорую вызывать… – Не надо скорую, я в порядке, – мужественно пробормотал я, чувствуя, однако, что все еще нахожусь на грани возвращения в обморок. – А что ты сейчас говорила про водичку? В руках у моей спасительницы появился стакан воды со льдом. Я взял его и, не торопясь, выпил. Ледяная вода произвела свое обычное лечебное действие. Я почувствовал, что прихожу в себя. В голове еще кружились смутные воспоминания о чертях и ангелах, там были и Ад, и Рай, и что-то еще. Однако мысли быстро таяли, как тает утренний сон после внезапного пробуждения. Казалось, еще мгновение назад он был такой ясный и осязаемый, он был вокруг, он был реальностью, и вдруг он рассеивается на глазах, и ты не успеваешь ухватиться за него, как он исчезает без следа. Остается только ощущение, что был сон, а потом и оно проходит. Так случилось и с моей памятью. Примерно с минуту я сидел и наблюдал, как в моей голове кружился дикий хоровод из событий прошедшей недели. Затем мысли стали путаться, яркая поначалу картинка стала тускнеть, таять, все завертелось в огромном водовороте, втянулось в гигантскую воронку и исчезло. Я сидел, пытаясь понять, вспомнить что-то очень важное, – то, что я только что знал и помнил. Но память отказывалась подчиниться. В голове образовалась странная пустота, которая стремительно заполнялась новыми воспоминаниями. Я уже не удивлялся тому, где нахожусь. Женщина рядом со мной была не просто чем-то мне знакома, – это была Ира, моя любимая Иришка, и это был ее дом в Тель-Авиве, и я жил в нем уже целую неделю, и собирался с удовольствием жить там и дальше, хотя скоро мы купим себе что-нибудь поприличнее. Память восстанавливалась частями, но главное я уже знал. Поэтому я наклонился, поцеловал озабоченную Иришкину мордочку, попросил больше обо мне не беспокоиться и дать мне еще пару минут, чтобы окончательно прийти в себя. А сам закрыл глаза, откинулся на спинку дивана, расслабился и стал приводить в порядок свои воспоминания. Вспоминалось медленно, как будто я читал книгу или смотрел кино. Книга оказалась настолько интересной и приятной, что я не спешил перелистывать страницы, а как бы заново проживал каждый эпизод. Постепенно я вспомнил все события прошедшей недели. После того, как я сообщил жене и теще об увольнении, и мы так славно побеседовали, я вернулся в свой кабинет. Решение пришло быстро. Даже удивительно, почему я так долго ждал. Я взял телефон и набрал номер отдела кадров своей бывшей работы. Ответила мне все та же импозантная женщина. Вначале она говорила очень сухо и настороженно, боясь, что я начну что-то выяснять или требовать. Узнав суть моей просьбы, она смягчилась настолько, что без дополнительных просьб выдала мне все информацию, которую я у нее попросил. Она даже добавила, что, вообще-то, такие данные разглашать не положено, но она меня понимает. К концу разговора мы расстались почти друзьями. Информация мне нужна была, действительно, не самая секретная. Я просто попросил дать мне домашний адрес бывшей сотрудницы Ирины Свердловой, той самой Иришки, с которой я ходил обедать на работе, и которую уволили вместе со мной. Адрес меня удивил: оказалось, что Ира жила в Тель-Авиве. Теперь мне стала понятна причина истерики, случившейся с ней во время увольнения. Девчонка ездила каждый день из ТельАвива на работу в промзону под Иерусалимом, а это – минимум пара часов в одну сторону. Теперь я мог действовать. Не торопясь, включил компьютер и сбросил все личную информацию в свою электронную записную книжку. Затем сказал «прости, друг, так уж вышло» и включил команду форматирования диска, – команду, которая сотрет с компьютера абсолютно все. Я в последний раз обвел глазами свой кабинет, полки с книгами, компьютер, который по моей команде потихоньку превращал себя в полного идиота. Я набросил на себя куртку, положил в карман кошелек с документами. Взял брелок с ключами от квартиры, подумал, и положил его на видное место на столе. Затем еще раз огляделся. Все, что мне действительно необходимо, было на мне. Как мало, оказывается, нам нужно в жизни! Не оттого ли мы обрастаем вещами и имуществом, чтобы обмануть себя, придать себе вес в собственных глазах и, что еще важнее, в глазах окружающих? А потом оказывается, что все это легко можно оставить и продолжить жить налегке. Я вышел из комнаты и прошел к входной двери. В гостиной все было спокойно, женщины сидели на диване и смотрели продолжение фильма. Я открыл дверь и тихо прикрыл ее за собой. На автобусе я добрался до Тель-Авива. Прямо на выходе с автобусной станции я увидел то, что искал. На бордюре тротуара сидел старик араб. Перед ним стояло ведро с розами. Это были не те стандартизированные надменные бутоны на тонких стебельках, какие продают в магазинах. С точки зрения цветочной индустрии, это была «не кондиция». У цветов были толстые кривые стволы с настоящими колючими шипами. Розы уже полностью распустились, и стояли во всей своей красе. У них были огромные махровые лепестки редкого цвета: желто-кремовые, с переходом в розовый. Раскрывшиеся цветы были размером с головку младенца. Каждая роза светилась изнутри как маленькое солнышко. Не торгуясь, чем, видимо, сильно обидел старика, я купил у него все, что оставалось в ведре. Огромный букет он завернул мне в толстую серую бумагу, которая только и могла защитить от шипов на стеблях. Всю дорогу от автостанции до Ириного дома я прошел пешком. Я не думал о том, что и кого у нее застану. Я делал то, что считал нужным; то, что, как понимал теперь, должен был сделать еще два года назад, когда впервые увидел Иру на работе. Букет я нес перед собой, как знаменосец на параде несет знамя. Не оттого, что был так им горд, просто на вытянутых руках шипы, казалось, не так кололись. Удивленно-восторженные взгляды прохожих убеждали меня в том, что я все делаю правильно. Следующим ярким и приятным воспоминанием была Иришка с розами. Она еле удерживала в охапке огромный букет. Я видел лишь ее макушку, потому что лицом она зарылась в розы. Периодически она поднимала голову и смотрела на меня счастливыми глазами, на которых еще не просохли слезинки. Я понял, что безумно люблю эту маленькую женщину: потрясающую, удивительную, сохранившую детскую способность мгновенно переходить от плача к радостной улыбке. Я открыл глаза. Иришка сидела на диване боком, поджав под себя коленки, готовая в любую минуты спрыгнуть с дивана и снова бежать спасать меня. – Иришка, любимая моя, иди сюда. Все прошло. Ты знаешь, я в какой-то момент не узнал тебя. Я забыл все, что с нами произошло. – Сумасшедший… – Ира нежно прижалась к моему плечу. – Разве такое можно забыть? Хочешь, я расскажу тебе все-все? Я ведь помню каждую минуту с того самого момента, когда ты появился на пороге с этими розами! – Расскажи, – попросил я ее, хотя уже и сам все вспомнил. Я чувствовал такую радость от этих воспоминаний, что хотел прожить их еще раз. Вместе с Иришкой, конечно. – Мы вышли из дома и отправились бродить по ночному Тель-Авиву. Этот город создан для того, чтобы гулять по нему ночью. Мы забрались на крышу небоскреба и смотрели на звезды, и на пролетавшие низко-низко огромные красивые самолеты. Помню, ты еще сказал, что так и не возьмешь в толк, почему они летают и не падают. – А ты объяснила мне, что они летают, потому что им это нравится. Потому что в жизни нужно делать только то, что нравится, и тогда будешь лететь и не падать. А если пересиливать себя и заставлять делать что-то совсем другое, не твое, вот тогда и шлепнешься на землю, и разлетишься на кусочки. А, скорее всего, просто не взлетишь. – А потом мы спустились вниз и пошли к морю. Оно было ночное, серое, урчащее. Мы сняли туфли, и босиком пошли по пляжу. Мы дошли до самой воды, где песок мокрый и твердый, и волны ласкали наши ноги. Я взял инициативу в свои руки. – Утром ты сказала, что испечешь яблочный пирог, но для этого тебе нужны кислые яблоки. И мы отправились на рынок за яблоками. С рынка мы возвращались другой дорогой через парк, чтобы прогуляться. По дороге мы почувствовали, что здорово проголодались, и слопали все яблоки. Мы шли по дорожкам парка, держась за руки, жевали кислые-прекислые яблоки, от которых на зубах появлялась оскомина, и хохотали как сумасшедшие. На нас, наверное, оборачивались, но мы не замечали этого. Весь мир принадлежал только нам. А мы, его владельцы, были настолько щедры, что делились этим миром с окружающими. Мы излучали счастье и радость; мы наслаждались каждым мигом нашего существования и охотно раздавали эту радость встречным прохожим. Съеденные яблоки только усилили наш продовольственный кризис. Выйдя из парка, мы чуть ли не бегом ворвались в ближайший ресторанчик и заказали две самые большие порции. Официант как-то странно посмотрел на нас, но принял заказ, и через двадцать минут мы стали обладателями двух кусков мяса, каждого из которых хватило бы на обед команде футболистов. Мы снова прыснули от смеха и набросились на еду. Немножко здравого смысла в нас все же сохранилось, поэтому мы вдвоем принялись за одну порцию, зато прикончили ее целиком, чем заслужили уважение официанта, с любопытством за нами наблюдавшего. Потом мы еще долго сидели за кофе, отдуваясь и вытирая пот со лба. Вторую порцию нам завернули в фольгу, и мы унесли ее с собой. Потом мы ели ее целую неделю, и никак не могли доесть. Я почувствовал, что окончательно пришел в себя. Я шутливо сбросил Иришу с дивана на пол и свалился за ней следом сам. Мы ласкали друг друга, упиваясь внезапно нахлынувшей страстью. Мне показалось, что я снова теряю память и ориентацию в пространстве: в какое-то мгновение вместо Иришки передо мной возникла совершенно другая девушка. Ее лицо было мне знакомо, но я никак не мог вспомнить, кто это. Девушка была очень красива, но ее портили небольшие рожки, торчащие на темечке из-под коротко остриженных волос. В следующий миг видение пропало, и я обнаружил, что лежу на диване, запыхавшийся и счастливый. Тут же лежала Иришка и тихонько терлась щекой о мое плечо. Оказалось, что мы как-то умудрились разложить диван и даже постелить простыни. Я достал сигарету и закурил. Как обычно, Ириша потребовала, чтобы я дал ей затянуться, и в результате мы вдвоем прикончили несчастную сигарету за пару минут. Я потянулся и прислушался к своим ощущениям. – Все, теперь я в полном порядке, а главное – с полноценной памятью. Нечего нам здесь сидеть и киснуть, пойдем к морю! И мы отправились к морю. Идти было недолго. Море показалось в конце улицы, и сразу приковало к себе внимание. Не отрывая от него взгляда, мы пересекли набережную, спустились на пляж. Подошли к самой воде и замерли, наслаждаясь удивительным зрелищем. Был закат. Солнце садилось в воду, и от него к нам протянулась широкая полоса расплавленного золота. Эта дорожка, казалось, была осязаемой и достаточно твердой, чтобы по ней можно было пройти. Вероятно, Ире пришла в голову та же мысль, и она сказала мне: – Давай пойдем по этой дорожке. Встанем на нее вдвоем и уйдем отсюда куда-нибудь далеко-далеко, где нас никто не найдет. Я молча повернул ее к себе и крепко обнял: – Не надо, – прошептал я. – У меня такое чувство, что я там уже был. Нет там ничего хорошего. Я вернулся к тебе по этой самой золотой дорожке, по солнечному лучу, чтобы жить здесь, с тобой, в этом мире. Плохой он или хороший, неважно. Главное, что в нем есть место для нас с тобой. Мы повернулись спиной к закату и медленно пошли прочь от манящей дорожки, поднимаясь вверх в душный влажный город; в нашу маленькую уютную квартирку, возвращаясь к будничным, но таким важным и желанным делам и заботам. Эпилог
Примерно через месяц после описанных событий я получил странную посылку без обратного адреса. В посылке оказалась книга неизвестного мне Сергея Еремина «Я вернулся с войны». В книгу была вложена фотография красивой, хорошо одетой молодой женщины с очаровательными близняшками лет трех: мальчиком и девочкой. Кроме этого, там лежала пожелтевшая от времени тетрадь, с выведенным каллиграфическим почерком заголовком: «Оригинальные кулинарные рецепты, собственность г-на Оливье». Я так и не понял, кто и почему прислал мне эту посылку. Книга оказалась скучной и плохо написанной. Фотографию неизвестной дамы с детьми я спрятал как можно дальше, во избежание расспросов с Иришиной стороны. А вот тетрадочка г-на Оливье пришлась очень кстати. Блюда, приготовленные по тем рецептам, неизменно приводят в восторг моих гостей – людей сытых и избалованных.
|


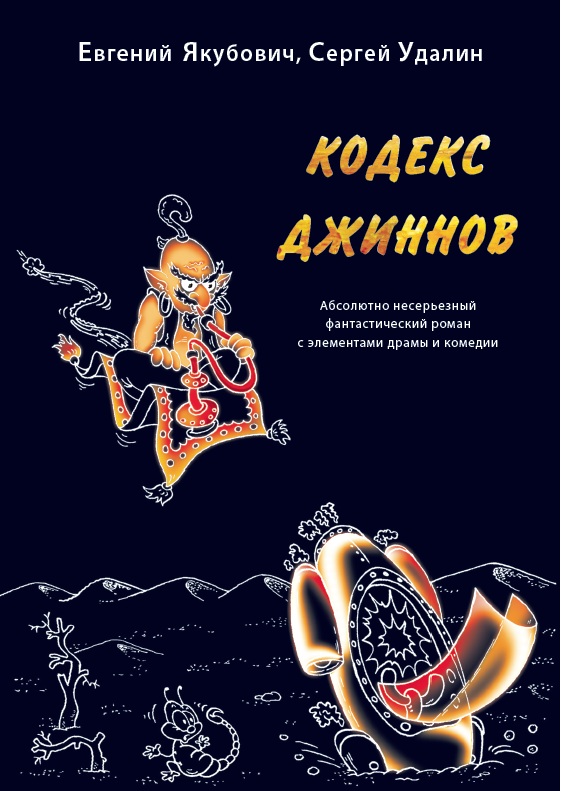
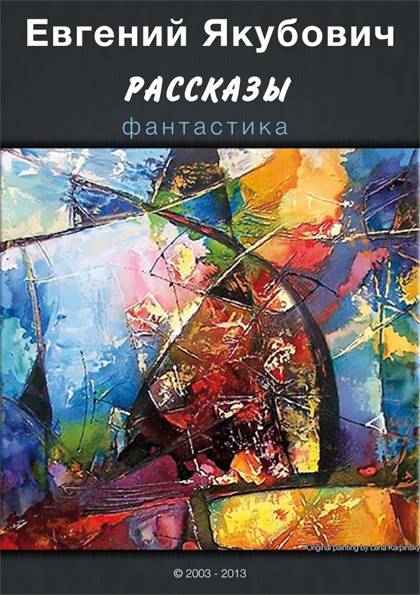
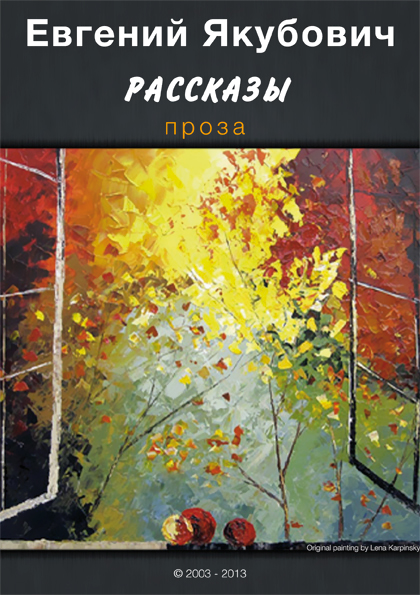


|
Copyright © 2005-2021, Евгений Якубович
